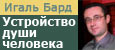Среди стариков виленской синагоги выделялся реб Фоля. Высокого роста, с
глубокими морщинами, словно прорезанными в потемневшей от времени коже, он
всегда сидел в правом углу синагоги. В общих стариковских разговорах реб Фоля
участия не принимал. Субботним вечером, после кидуша, он сразу уходил, тяжело
опираясь на увесистую коричневую палку.
Впервые я обратил на него внимание Девятого ава, во время «Эйха». Никогда, ни
до, ни после, я не слышал такого чтения.
Реб Фоля почти срывался на плач, голос дрожал и бился, словно птица в силке
птицелова. Старинные слова и сравнения звучали, будто написанные совсем недавно,
лет пятьдесят тому назад.
Реб Фоля, потомственный каунасский литвак, родился перед войной, детство
провел в гетто, и чудом уцелел в концлагере. Из огромной семьи спасся только он.
Ему было о чем вспоминать, читая «Эйха».
Но все это я узнал позже, а поначалу меня удивил странный факт: во время
утренней молитвы «Шахарит», реб Фоля накладывал головные тфилин почти на
переносицу. В книгах точно описано, как нужно располагать коробочку: по краю
волос, или по тому месту, где когда-то проходил этот край. Но не ниже.
Ощущение причастности вместе с сознанием собственной правоты – взрывоопасное
сочетание. Ничуть не смущаясь разницей в возрасте, я подошел к реб Фоле и
принялся объяснять, в чем состоит его ошибка. Мысль о том, что он делает это
намеренно, даже не пришла мне в голову.
Реб Фоля терпеливо выслушал мои пояснения и ответил:
– Мальчик, у меня с Ним свои счеты. Не вмешивайся. Иди, иди, не мешай
молиться.
Так я впервые столкнулся с пристрастным разговором со Всевышним.
Тогда я только начинал путь по трудной дороге соблюдения заповедей. Вместе со
мной в том же направлении продвигались еще несколько десятков молодых людей. Но
в отличие от предыдущих поколений, традицию мы получали не от дедов или отцов, а
от заезжих иностранцев. Немного освоив иврит, рылись в горах постановлений и
респонсов, выкапывали крохи из книг. Выглядело все это довольно странно. Среди
первых предписаний, полученных мною, были правила завязывания шнурков на
ботинках и способы засыпания; с какого бока начинать, и на какой
переворачиваться.
У реб Фоли традиция еще жила, он помнил, как отец брал его на Рош-Ашана в
ешиву «Слободка», и даже сохранил смутный образ последнего из великих учителей
Литвы – раввина Эльхонана Васермана.
Я искал случай сойтись с ним поближе, посмотреть, как он выполняет всякого
рода предписания. Помог Песах.
В Израиле обычай двухдневного седера отсутствует, а в Вильнюсе мы
устраивались очень славно: первый вечер, как и положено, проводили с родителями
и родственниками – вещая в их забитые комсомольским прошлым уши странные
рассказы о рабах и фараоне, а во второй собирались своей компанией. Заведенный
порядок пришлось переменить; на первый седер я пригласился к реб Фоле, а второй,
для тренировки и запоминания, предполагалось провести дома.
После вечерней молитвы мы вышли из синагоги в приподнятом настроении. Вокруг
текла серая будничная толпа, троллейбусы плевались грязной юшкой литовской зимы
– растаявшим снегом вперемежку с мусором. Реб Фоля, по своему обыкновению, пошел
проходными дворами. Во дворах царил полумрак, лампочки фонарей давно разбили или
выкрутили. Но нам это не мешало, мы шли со своим светом.
В доме у реб Фоли ярко горели свечи в отполированных подсвечниках, на длинном
столе, покрытом хрустящей белой скатертью, в строгом порядке были расставлены
столовые приборы. Посреди стола возвышались два серебряных кубка. Вид у них был
довольно старый, несмотря на усилия хозяйки, серебро так и не приобрело
глянцевый блеск, а светилось рассеянным светом благородной седины.
– Это кубки моего прадеда, – с легкой гордостью заметил реб Фоля. – Только
они уцелели...
Сухонькая старушка в белом платочке усадила меня возле хозяина. Мы удобно
расположились, опершись на маленькие подушечки, и реб Фоля раскрыл Агаду.
Странно, но в квартире кроме нас троих никого не было. Для кого же приготовлен
такой длинный стол?
– Извините, реб Фоля,– спросил я, – больше никто не придет?
Он поймал мой взгляд, устремленный на сияющие ножи, вилки, хрустальные
рюмочки и фужеры.
– Седер, это ведь семейный праздник, не так ли?
– Так,– подтвердил я.
– Вот мы и встречаем его всей семьей. Отец, мать, четыре сестры и три брата.
Пока я жив, будут жить и они.
Подробности седера уплыли из моей памяти, вернее, настолько прочно вошли в
нее, что попросту стали моими, не ощущаемыми отдельно, как не ощущается
самостоятельность руки или шеи. Кроме одной детали, забыть которую я не смогу
никогда.
В конце седера, после крепкого бульона с золотыми глазками жира, галушек из
мацовой муки, двух видов мяса и «тейгелах» на закуску, реб Фоля наполнил до
краев большой кубок, сиротливо возвышавшийся посредине стола.
– Кубок пророка Элиягу. По традиции, мы оставляем его на столе до утра.
О такой традиции я ничего не слышал, мы попросту вливали вино обратно в
бутылку.
– Пасхальной ночью Элиягу посещает каждый еврейский дом. Как он это делает,
объяснить не могу, на то он и пророк, живым ушедший на небо. Иногда, в знак
особого расположения, он отпивает из кубка. Такое мне доводилось видеть дважды:
в Каунасе перед началом войны и в год, когда у нас родился сын.
После седера реб Фоля пошел меня провожать. На лестнице, в темноте, я решился
задать ему вопрос, который никогда бы не сумел выговорить при свете, глядя в
глаза.
– Реб Фоля, а почему вы уверены, что дорога, по которой мы идем, правильная?
– То есть? – не понял реб Фоля.
– В мире существуют много религий, есть всякие духовные учения типа
Гурджиева, Раджнеша, «Агни-йоги». Откуда мы знаем, что идем по правильной
дороге?
Реб Фоля не ответил. Ступени деревянной лестницы скрипели под нашими
осторожными шагами. Только выйдя из парадной, он, наконец, заговорил.
– Чем дальше идешь, тем больше убеждаешься в правильности пути. Одним
прекрасным утром, ты вдруг почувствуешь, что тебя окружает «шабес». Не суббота,
не седьмой день недели, а «шабес». После этого все вопросы отпадут сами собой.
– А когда это случится?
– Все зависит только от тебя. Может, скоро, а может, и нет. Но произойдет,
обязательно произойдет, обещаю тебе.
– Вам хорошо, вы уже почувствовали. Но как жить тем, кто еще не достиг?
Откуда брать силы для дороги?
– Иногда Всевышний, в великой милости своей, делает для человека невозможное,
посылает ему знак. Умному хватает намека, а глупый...
Реб Фоля улыбнулся:
– В нашей команде одни победители: лишь те, кто добрался до финиша.
Он немного помолчал и добавил, уже совсем другим тоном.
– Но есть вещи, которые я Ему не прощу. Никогда не прощу...
Уточнять, что реб Фоля имел в виду, я не стал. Оно витало во влажном воздухе
виленских улиц, стучало в висках острыми молоточками памяти. Слова — это признак
беспомощности, истина не нуждается в словах, перетекая напрямую от сердца к
сердцу.
Мы распрощались. Я шел по темным улицам, и надо мной устало перемигивались
старые звезды, те самые, что светили еще виленскому Гаону.
Второй седер я провел без труда, интонации реб Фоли мягко перекатывались в
моих ушах. Самый красивый фужер терпеливо поджидал в середине стола. Несколько
раз на него покушались неграмотные родственники, но их недостойные
покусительства я пресекал решительной рукой. Фужеру была уготована более высокая
участь.
Наполнив его до самых краев, я вернул фужер на место и принялся за
благословения. Седер кончился, сытые родственники разбрелись по домам. В ту ночь
сон бежал от моих глаз, я кружил по комнате, то и дело возвращаясь к вишневому
цветку посреди пустого стола. Для чистоты эксперимента спать мне постелили на
диване, в той же комнате.
Наутро, едва сполоснув руки, я ринулся к фужеру. Он был наполовину пуст,
невозможно, невообразимо пуст. Испариться такое количество вина не могло, в
комнату никто не входил. Значит...
С тех пор прошло много лет и еще не было седера, на котором бы я не оставил
до утра кубок Элиягу. Мои волосы побелели, нос украшают очки, размер брюк
увеличился на три номера. Я знаю неизмеримо больше, чем знал на том седере, и «шабес»,
который обещал мне реб Фоля, давно наступил. Но бокал поутру остается
нетронутым, абсолютно, невозможно не тронутым, и с этим я ничего не могу
поделать.
![]()
![]()
![]()
![]()